Трудности современного душепопечения
Трудности современного душепопечения
Мы живем в противоречивую и смутную эпоху. Противоречивость присуща уже самому феномену «духовного возрождения России», о котором сегодня так много говорят. Противоречивость или скорее парадоксальность нынешнего российского духовного возрождения заключается в том, что оно происходит на фоне духовной катастрофы. Чем объясняется такая, казалось бы, взаимоисключающая одновременность? Неисчерпаемыми духовными потенциалами русских людей или универсальностью действия знаменитого закона, согласно которому с умножением греха преизобилует благодать (Рим. 5,20)?
Вот какую картину нарисовал в одной из своих статей прот. Дмитрий (Смирнов): «Ездя по России, повсюду видишь: все разорено, земля и люди изуродованы так, как будто прошла какая-то чудовищная война… То есть, наши прекрасные города невозможно узнать, наша прекрасная страна превратилась в полную помойку. А во что превратилась доблестная, непобедимая русская армия, во что превратилась наша славная милиция, которая защищает только саму себя, во что превратились наши дети, что из себя представляют наши внуки? Где у нас счастливые семьи, где у нас дети, которые любят своих родителей, которые им послушны? Это исчезло полностью, и с каждым годом деградация идет дальше»[1] … И сегодня, добавлю я от себя, духовное, психическое и физическое состояние нашего общества определяется критическими пороговыми показателями, делающими весьма проблематичными с точки зрения экспертов усилия, направленные на перелом ситуации в сторону оздоровления общества. К примеру, у нас сейчас одни из самых высоких по миру показателей наркомании, алкоголизма, самоубийств, абортов. А с другой стороны, «небывалый за всю историю христианства рост монастырей и открытие новых приходов, появление новых церковных учебных заведений, возрождение церковного пения, иконописи, архитектуры».[2] Вот таков исторический и духовный контекст, в котором приходится нести свое пастырское служение современному российскому священнику.
Не есть ли такое вроде бы несовместимое совмещение или, лучше сказать, наложение друг на друга процессов распада и возрождения признаком наступившей апостасии, под знаком которой, по свидетельству многих авторитетных богословов и духовников живет сегодняшний мир? «Трудные времена, – пишет арх. Аверкий (Таушев), – мы сейчас переживаем, каких, по-видимому, никогда еще не было в истории христианства, ибо это явно наступивший период «апостасии» со всеми своими характерными признаками»[3]. Апостасийная, антихристианская эпоха характеризуется также процессом изощренных подделок и подтасовок, при котором антихристианские «добродетели» до неузнаваемости маскируется под христианские, имеют как бы своих «двойников», и каждая христианская ценность внутренне переосмысливается и как бы раздваивается на два противоположных по духу полюса, так что двоятся понятия любви, смирения, послушания и проч. И трудно в этой духовной неразберихе созидать свое спасение, не говоря уже о том, чтобы помогать созидать его другим. «Семьдесят лет советской власти с оголтелой антирелигиозной пропагандой не могли пройти бесследно. Оторванность от православной традиции ощущается очень остро и болезненно, и это касается не только церковной, но и обыденной жизни. Мы разучились распознавать, мы потеряли критерии различения добра и зла»[4]. Вот – основная трудность современного пастырского душепопечения, коренящаяся в апостасийном характере современной эпохи. Она порождает и все остальные трудности. «Что являет собой этот мир под действием нынешней воинствующей апостасии? Мир захлебывается в аморальной грязи, содрогается в предсмертных судорогах греха безбожия. Может ли духовно-зрячий пастырь не видеть, какое пагубное влияние имеет этот мир и на судьбы русского православного пастырства»?[5]
Да, на фоне современного европейского кризиса веры, когда продаются с молотка десятки, сотни опустевших христианских храмов (на сайте только Пльзеньской (Чехия) католической епархии продается более 50 храмов) неуклонное увеличение количества монастырей и храмов в России выглядит бурным религиозным ренессансом. Но это только «на фоне». На самом деле с религиозным подъемом у нас не все так просто. Души тех, кто пришли в храм, вернее сказать, смогли дойти до храма через шквал обрушившейся на их головы современной тотальной пропаганды греха, томимы не только духовной жаждой, но и последствиями греховного, зачастую тяжелого греховного прошлого. Современное шквальное, почти беспрепятственное распространение всех, в том числе и самых изощренных форм греха было подготовлено прошлой атеистической эпохой. Причем современным духовникам приходится иметь дело с такими греховными ситуациями, которые раньше не встречались в их духовнической практике или, по крайней мере, встречались крайне редко (например, наркомания). «Нынешние чада Церкви совершенно особые, порождение всеобщей апостасии, они приходят к духовной жизни, отягченные многими годами греховной жизни, извращенными понятиями о добре и зле»[6]. Какие-то традиционные пастырские схемы, рассчитанные на паству прошлых веков, или, по крайней мере, прошлого века, уже сегодня во многом недейственны. Как-то Оптинский старец Нектарий ответил своим духовным чадам, жаловавшимся на то, что дети после отмены преподавания Закона Божия в школах стали непослушными, грубыми, дерзкими: «Подождите, еще такие волчата и собачата вырастут»… Современное массированное и всеобъемлющее растление молодежи, охватывающее школы, институты, улицу, культурные ареалы ярко свидетельствуют о исполнении этих слов. Сегодня уже приходится слышать, что молодежь становится неуправляемой. В каком-то смысле это можно сказать и о современной пастве, формируемой из современной молодежи. «Из нас никто уже почти не способен отдаться целиком внутренней, духовной работе, и едва находится такой, кто хоть десятую часть своей жизнедеятельности чисто и без остатка посвящает Богу. И никакими нажимами и требованиями невозможно принудить человека отдавать больше … Насилие лишь вызовет бунт, крайний протест и, может быть, человек вовсе побежит вспять».[7]
Вообще, леность к духовной жизни – от нечуствия греха, который стал в наше время «обычным», «привычным». На лозунгах типа «бери от жизни все» воспитываются сегодня целые поколения. «Некоторые из недавних исследователей нашей современной жизни назвали молодежь сегодняшнего дня поколением «мне», а наше время «веком нарциссизма», характеризуемым поклонением себе и обожанием самого себя, что мешает развиваться нормальной человеческой жизни. Другие говорят о «пластмассовой» вселенной или фантастическом мире, где сегодня живет такое огромное количество народа, неспособного стать лицом к реальности окружающего мира или приспосабливаться к ней, или обратиться к своим внутренним проблемам»[8]. Современная установка на жизненный комфорт диаметрально противоположна нормам христианской жизни с ее аскетизмом. Грех сейчас стал столь привычен, что в рамках его многие современные христиане устанавливают уже для себя если не «безгрешные», то хотя бы «нейтральные» зоны: например, курить сигареты «можно», это «не мешает жить», а курить анашу «нельзя», а впрочем «можно», если «по чуть-чуть». Героин употреблять «нельзя», а «экстези» «можно», «даже школьникам». «Часто приходится слышать: баптисты не пьют, баптисты не курят, баптисты не бесчинствуют, а нашим православным людям и в голову не приходит, что есть такие простые вещи, которые всякий может исполнить … Более того, эти вещи большинством наших соотечественников совсем не воспринимаются как простые и обязательные к исполнению. Особенно сейчас, в последнее пятнадцатилетие, когда на Россию обрушилось испытание свободой, которая большинством воспринята как безответственность и потворство плоти и страстям».[9]
Главная проблема современных чад, с которой приходится считаться современным пастырям – это неумение и нежелание терпеть скорби душевные и физические, как последствия греховной жизни. Современный человек к работе над собой, к борьбе с грехом подходит с привычной для него потребностью получить «все и сразу». Но, столкнувшись с реальностью долгой и «нудной» работы над собой он быстро охладевает. Его жутко пугают «сроки». «И все эти трудности – необходимость трудиться, терпеть, смирять свою самость – становятся для многих, привыкших искать в жизни только радости и удовольствия, препятствием к продолжению духовной жизни»[10]. Сегодня почти уже нереально повторение классических житийных ситуаций быстрого, зачастую чудесного духовного становления. Любой грех требует времени для покаяния. И чем серьезнее грех и продолжительнее время пребывания в нем, тем большие сроки требуются для покаяния и очищения. А мы видим, что с каждой эпохой, а теперь, наверное, уже и с каждым годом, разрушительная сила греха увеличивается. И как никогда сегодня требуется это драгоценнейшее христианское качество – терпение – и как никогда его-то как раз у современных христиан и не хватает. И в первую очередь необходимо это качество пастырям-духовникам. Они должны запастись терпением на долгие, долгие годы, потому что плоды их духовничества сегодня не так эффектны, не так обильны, а главное не так скоры, учитывая тяжелые степени обладания современных людей грехами, причем зачастую такими трудно исцелимыми как пьянство, наркомания, различные формы блуда. Покаялся и снова впал в тот же самый грех, опять покаялся и опять согрешил – такова обычная «практика» современных чад. Она создает неизбежную современную пастырскую «рутину». И сам духовник может впасть в уныние от собственной «несостоятельности» и даже потерять веру в исправление своего «трудного» чада. И тут-то ему и может помочь великая добродетель терпение со своими спутниками – верой, надеждой и любовью – и еще его умение вселить эту троицу добродетелей в души своих чад, несмотря на все трудности их покаянного пути.
Воспитание на принципах сначала советского, а теперь уже и совсем «безудержного» гуманизма развивает в современных людях гордыню и самолюбие чуть ли не до паталогических форм. Современные подвижники благочестия свидетельствуют, что в наше время почти уже утрачено сложнейшее искусство аскетической брани с гордостью и тщеславием. «Сейчас время особого расцвета диавольского недуга гордости – матери всех греховных страстей, – писал еще в 60-х годах арх. Аверкий (Таушев), – и всех проистекающих из нее пороков: самолюбия, самомнения, обидчивости, злопамятства, мстительности, тщеславия, славолюбия, самопревозношения …Неудивительно, что и паства у нас теперь очень трудная, весьма трудно поддающаяся христианскому наставлению и вразумлению, своенравная, самонадеянная, часто безнадежно-невежественная во всем, что касается нашей святой веры и Церкви»[11]. Гордость и самолюбие – основная причина всевозможных духовных и душевных проблем у современных христиан, а также неспособности их к ревностным, покаянным труда, какие могли совершать христиане прошлых веков. Сегодня особенно актуальными для нас становятся слова великого учителя Русской Церкви свят. Игнатия Брянчанинова о том, что скорби являются уделом христиан последнего времени. В современном мире, в котором откровенно и беспрепятственно насаждается грех во всех его формах, христианский подвиг в значительной степени затруднен. А по законам христианской аскетики недостаточность усилий по борьбе со «сластьми и похотьми» должна быть восполнена душевными скорбями. Поэтому удел многих современных людей – терпеть эти скорби душевные. А терпеть-то современное поколение «мне», как мы говорили выше, как раз и не приучено. Многие современные чада напоминают тех героев из евангельской притчи, к которым были адресованы слова Христа: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали» (Мф. 11, 17).
Много душевных сил, выдержки и смирения нужно иметь современным духовникам, чтобы, терпеть своих непослушных, своенравных и капризных чад. Причем от послушания осталось одно только понятие, истинный смысл которого уже почти повсеместно утрачен. «Некоторые люди спрашивают совета не по послушанию и смирению, а от своей духовной лени, от нежелания принимать самостоятельно решения и быть ответственными за них перед Богом и людьми. Такими лицами руководит лукавое стремление переложить ответственность на другого, то есть на священника. Они рассуждают так: если священник ошибся, дал неверный совет, то он и несет ответственность за это, а я не виновен и не несу ответственности. Такая позиция есть искание легкого духовного пути под личиной послушания. В конце концов, она приводит к духовной порабощенности»[12].
А сколько душевного такта и гибкости нужно, чтобы, не задеть, не обидеть словом, даже взглядом и тем самым не оттолкнуть от себя некоторых не в меру обидчивых и мнительных чад. Но с другой стороны «недопустимо беспредельное снисхождение к грехам и беззакониям своих пасомых – из человекоугодничества или из боязни потерять свою популярность или по каким бы то ни было другим соображениям: не к лицу истинному пастырю столь похваляемая современными людьми «эластичность». Пастырь – не дипломат, а служитель Истины»[13]. И зачастую бывает трудно установить баланс между «необходимым минимумом» пастырской строгости и неизбежной в случае с современными чадами снисходительностью. Нередко снисходительность бывает не так опасна, как «принципиальность». Некоторые современные чада вот-вот готовы сорваться в уныние, даже в отчаяние. Чуть что, «мне не спастись», или «Господь оставил меня». И как важно здесь пастырям не забывать, что грех – это скорее болезнь, чем преступление.
Список литературы:
|
[1]Беседы перед исповедью. Путь к покаянию. Даниловский благовестник 2005, 124-125.
[2]Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на ежегодном заседании епархиального собрания Москвы (15 декабря 2001 г.). FREEhost.com.ua - украинский хостинг - UNIX хостинг.
[3]Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. Слова и речи. Том 3. Сущность и методы истинного пастырствования и наше время. http: //www.omolenko.com .
[4] Священник Алексий Тимаков. Пастыри одичавшего стада. "Альфа и Омега", № 42. По материалам электронного сайта «Россия в красках».
[5]Протопресвитер Валерий Лукьянов, США. Православный пастырь и действующая апостасия.Из размышлений священника. Электронная версия.
[6] Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 2004, стр. 12.
[7] Архимандрит Лазарь (Абашидзе). Мучение любви (келейные записки). Саратов 2005, стр. 173.
[8]Отец Серафим (Роуз). Приношение современному монашеству. Братство Преподобного Германа Аляскинского. Платина, Калифорния. Российское отделение Валаамского Общества Америки. Москва 2001, стр. 11.
[9]Священник Алексий Тимаков. Пастыри одичавшего стада. "Альфа и Омега", № 42. По материалам электронного сайта «Россия в красках».
[10]Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2004. Стр. 13.
[11]Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. Слова и речи. Том 3. Сущность и методы истинного пастырствования и наше время. http: //www.omolenko.com .
[12]Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на ежегодном заседании епархиального собрания Москвы (15 декабря 2001 г.). FREEhost.com.ua - украинский хостинг - UNIX хостинг.
[13]Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. Слова и речи. Том 3. Сущность и методы истинного пастырствования и наше время. http: //www.omolenko.com.

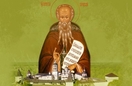 Основатель обители - прп. Пафнутий
Основатель обители - прп. Пафнутий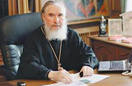 Священноархимандрит монастыря
Священноархимандрит монастыря Наместник монастыря
Наместник монастыря Последний наместник обители перед ее закрытием
Последний наместник обители перед ее закрытием Схиархимандрит Амвросий Балабановский (Иванов)
Схиархимандрит Амвросий Балабановский (Иванов) Духовник обители
Духовник обители Монастырский хор
Монастырский хор История
История Архитектура
Архитектура Подразделения
Подразделения Подворья
Подворья О монастыре
О монастыре Просвещение
Просвещение Издательство
Издательство Молодежное служение
Молодежное служение Калужская епархия
Калужская епархия Православные СМИ
Православные СМИ Боровский край
Боровский край Миссионерская деятельность
Миссионерская деятельность Социальное служение
Социальное служение Доска объявлений
Доска объявлений Фотогалерея
Фотогалерея Аудиогалерея
Аудиогалерея Видеогалерея
Видеогалерея Детская воскресная школа
Детская воскресная школа Многофункциональный центр традиций и инноваций «Стратилат»
Многофункциональный центр традиций и инноваций «Стратилат» Образовательные чтения и конференции
Образовательные чтения и конференции Вопрос священнику
Вопрос священнику Еженедельник «Вестник»
Еженедельник «Вестник» Журнал «Кораблик»
Журнал «Кораблик» Газета «Боровский просветитель»
Газета «Боровский просветитель»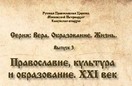 Серия «Вера. Образование. Жизнь.»
Серия «Вера. Образование. Жизнь.» Книги
Книги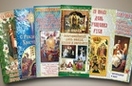 Буклеты
Буклеты Молитвослов-тексты
Молитвослов-тексты Авторы
Авторы Паломническая служба
Паломническая служба Паломнический центр
Паломнический центр Музей "Русской Иконы"
Музей "Русской Иконы" Паломническая служба
Паломническая служба Паломнический центр
Паломнический центр Музей "Русской Иконы"
Музей "Русской Иконы"




